ОГОНЬ ЖАЛОСТИ
Философ Виктор Малахов о слезном аспекте мира, милующем сердце и очищающем огне души
- Виктор Аронович МалаховФилософ
- Екатерина Макаревичжурналист, философ
- Татьяна Алексеевна Чайкафилософ, исследователь Холокоста, автор серии бесед "Прикосновение. Устные истории философов", супруга В.А.Малахова
Справка: Виктор Аронович Малахов - доктор философских наук, являлся главным научным сотрудником Института философии НАНУ. Автор более 200 публикаций в области этики , истории философии , философии культуры . Среди самых известных его монографий - «Культура и человеческая целостность» (Киев, 1984 ), «Искусство и человеческое мироотношения» (Киев, 1988 ), «Ранимость любви» (Киев, 2005 ), «Право быть собой» (Киев, 2008 ), брошюры «Стыд. Философско-этический очерк »(Москва, 1989 ),« Наука разлуки ... »(Москва, 1992 ). Учебное пособие В. А. Малахова «Этика: курс лекций», впервые изданное в Киеве в 1996 году (сегодня существует уже пять переизданий), до сих пор остается одним из главных учебников этики в украинских университетах.
Философ Виктор Малахов, на данный момент живущий в Израиле (г. Нагария), поделился с The Virtuoso своими размышлениями о том, почему современному миру нужно помнить об опыте жалости, о ее развилках, а также о том, как слезный дар противостоит однотонной серьезности и как внутренний огонь жалости способен мгновенно вочеловечить безжалостного человека.
Философ Виктор Малахов, на данный момент живущий в Израиле (г. Нагария), поделился с The Virtuoso своими размышлениями о том, почему современному миру нужно помнить об опыте жалости, о ее развилках, а также о том, как слезный дар противостоит однотонной серьезности и как внутренний огонь жалости способен мгновенно вочеловечить безжалостного человека.
- Жалость, о которой мы поговорим, в современном контексте имеет негативный окрас, но зная вас, как глубоко вы исследуете нравственный ландшафт, я понимаю, что чувство жалости неоднозначно и обладает более глубокими смыслами. Но прежде, расскажите, почему тема жалости для вас, как специалиста по этике, важна.
- Почему эта тема для меня важна? Ну, каждый человек родом из своего детства. Я помню, что для меня опыт жалости в детстве был очень значимым. По первым своим впечатлениям помню, что это чувство, во-первых, очень резкое, пронизывающее. Во-вторых, никогда не знаешь, в какой именно ситуации оно тебя застигнет. Я рос в послевоенное десятилетие. Тогда на улицах было, например, много инвалидов. Были нищие, много бедных людей, неухоженных детишек. Чувство жалости к кому-нибудь из них могло вспыхнуть внезапно. И третье. Жалость - чувство, в котором очень сложно признаться. Сейчас я могу попытаться объяснить себе и другим, почему это так. Но в детстве, конечно, не мог. Просто по опыту знал, что чувство это – трудное. Если в первом приближении попытаться очертить его место в жизни, то я бы сказал, что жалость - это высокая степень сочувствия, глубинной симпатии, связанной с пониманием того, что непосредственно вмешаться в судьбу существа, которое жалеешь, сделать для него самое необходимое ты не в состоянии. Его жизнь в каком-то смысле обречена, и для тебя это невыносимо. У моей бабушки, Полины Федоровны, моей мамы, Тамары Павловны Малаховой, была эта способность - глубоко и сердечно жалеть других людей. Они обе были склонны временами поплакать по поводу людских бед и несчастий, которые всегда, так или иначе, присутствуют в нашей жизни. Я это видел. И так формировалось мое изначальное отношение к этому чувству. Я думаю, что в жизни человеческой оно играет большую роль, о которой стоит поговорить подробно.
- Почему эта тема для меня важна? Ну, каждый человек родом из своего детства. Я помню, что для меня опыт жалости в детстве был очень значимым. По первым своим впечатлениям помню, что это чувство, во-первых, очень резкое, пронизывающее. Во-вторых, никогда не знаешь, в какой именно ситуации оно тебя застигнет. Я рос в послевоенное десятилетие. Тогда на улицах было, например, много инвалидов. Были нищие, много бедных людей, неухоженных детишек. Чувство жалости к кому-нибудь из них могло вспыхнуть внезапно. И третье. Жалость - чувство, в котором очень сложно признаться. Сейчас я могу попытаться объяснить себе и другим, почему это так. Но в детстве, конечно, не мог. Просто по опыту знал, что чувство это – трудное. Если в первом приближении попытаться очертить его место в жизни, то я бы сказал, что жалость - это высокая степень сочувствия, глубинной симпатии, связанной с пониманием того, что непосредственно вмешаться в судьбу существа, которое жалеешь, сделать для него самое необходимое ты не в состоянии. Его жизнь в каком-то смысле обречена, и для тебя это невыносимо. У моей бабушки, Полины Федоровны, моей мамы, Тамары Павловны Малаховой, была эта способность - глубоко и сердечно жалеть других людей. Они обе были склонны временами поплакать по поводу людских бед и несчастий, которые всегда, так или иначе, присутствуют в нашей жизни. Я это видел. И так формировалось мое изначальное отношение к этому чувству. Я думаю, что в жизни человеческой оно играет большую роль, о которой стоит поговорить подробно.
УЯЗВИМОСТЬ И ЖАЛОСТНАЯ БЕЗЗАЩИТНОСТЬ
- Попробуем разобраться в этом чувстве. В языке сами слова «жалость» и «жалеть» уже таят в себе подсказку. На поверхности – «жало». То, что тебя жалом касается и ранит.
- Связь нравственного опыта жалости с чем-то жалящим, пронзающим в восточно-славянских языках этимологически очевидна. Причем само слово изначально полисемантично и может означать достаточно разные чувства, которые объединяются тем, что они жалят, ранят и глубоко задевают человека. Это может быть и ревность, и боязнь, и возмущение, и многое другое. Со временем, однако, доминирующее значение приобретает именно мотив пронзительного, слёзного сочувствия другому. Симптоматично, кстати, что, например, английское pity (жалость) производно от латинского pius – благоговение; соответственно, на передний план выходит совсем другой комплекс значений. Что ж - каждая культура вносит свой вклад в формирование общечеловеческих нравственных констант. Знаменательна высокая роль жалости в житийных текстах ещё древнекиевской поры. Выдающийся исследователь отечественной агиографии Георгий Петрович Федотов, в частности, писал, что главная нравственная характеристика житий Бориса и Глеба – «жалостная беззащитность» святых юных князей.
- Связь нравственного опыта жалости с чем-то жалящим, пронзающим в восточно-славянских языках этимологически очевидна. Причем само слово изначально полисемантично и может означать достаточно разные чувства, которые объединяются тем, что они жалят, ранят и глубоко задевают человека. Это может быть и ревность, и боязнь, и возмущение, и многое другое. Со временем, однако, доминирующее значение приобретает именно мотив пронзительного, слёзного сочувствия другому. Симптоматично, кстати, что, например, английское pity (жалость) производно от латинского pius – благоговение; соответственно, на передний план выходит совсем другой комплекс значений. Что ж - каждая культура вносит свой вклад в формирование общечеловеческих нравственных констант. Знаменательна высокая роль жалости в житийных текстах ещё древнекиевской поры. Выдающийся исследователь отечественной агиографии Георгий Петрович Федотов, в частности, писал, что главная нравственная характеристика житий Бориса и Глеба – «жалостная беззащитность» святых юных князей.
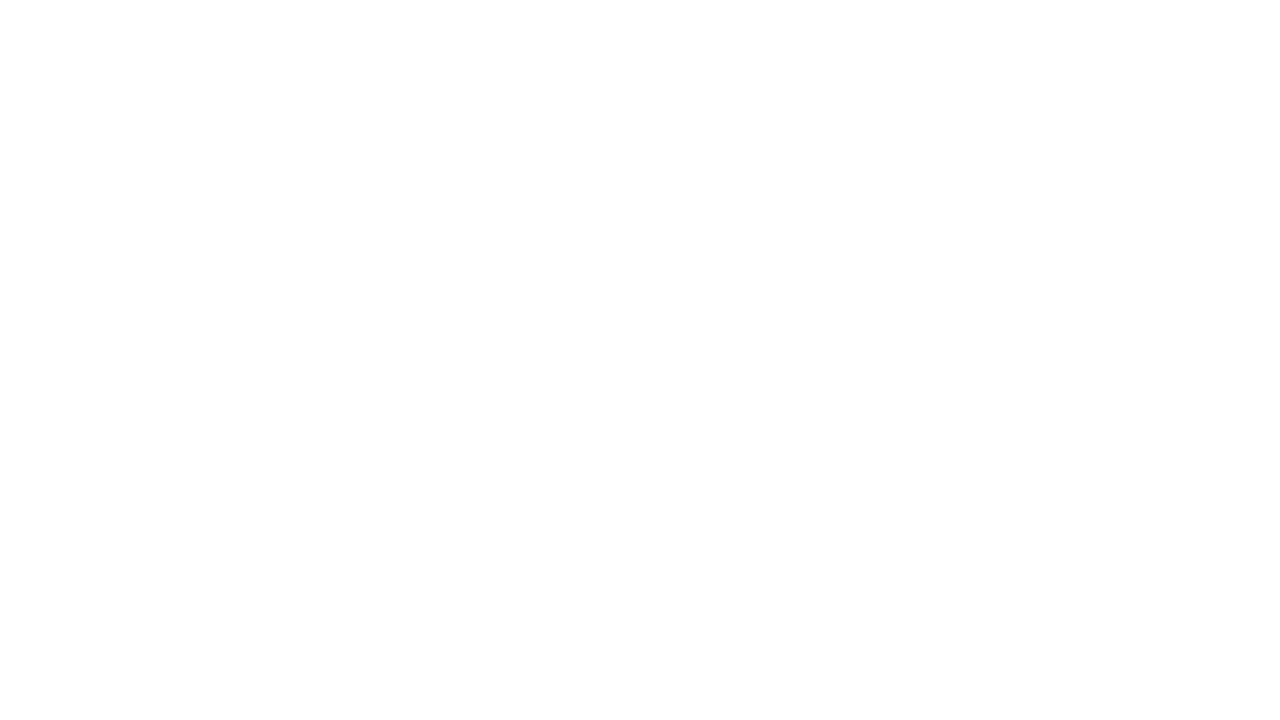
СТРАСТОТЕРПЦЫ БОРИС И ГЛЕБ
Древним автором сделано все, чтобы вызвать чувство острой, всепроникающей жалости к ним. Этого мы не находим ни в каком другом европейском христианском житии того времени. Помните, у Бориса Чичибабина есть стихи:
Ныне и присно по кручам Синая,
по полю русскому в русское небо,
ни колоска под собой не сминая,
скачут лошадки Бориса и Глеба...
Действительно ведь скачут эти лошадки по просторам нашей истории и культуры…
Как пишет Федотов, Бориса и Глеба ни в коем случае нельзя рассматривать как героев. Они страстотерпцы. Да, подражая Христу, они с готовностью претерпевают мучения, но при этом вовсе не чураются земной жизни, сокрушаются, что во цвете своих юных лет должны погибнуть. Всячески подчёркивается момент их человеческой уязвимости, слабости, юношеской красоты. В итоге, читатель их жития не может не проникнуться чувством жалости к юным князьям. Причем замечательно, что эта жалость их никоим образом не унижает. Она сопряжена с любовью, восхищением их человеческим совершенством, их святой кротостью.
Так что, как видим, жалость – достаточно ёмкое чувство, она не чужда и некоего внутреннего света. Если вернуться к «Сказанию» о Борисе и Глебе, мы видим, что жалость тут очень тонко и вместе с тем органично связана с ощущением радости жизни, с радостью от её красоты и совершенства, от присутствия в ней божественного промысла. «Плакашеся съкрушенъмь сьрдьцьмь, а душею радостьною, жалостьно гласъ испущааше» - так описывается здесь предсмертное состояние Бориса. И у читателя в доминанте остается именно эта светлая жалость, способная вызывать слезы. Недаром впоследствии образуется пословица – «жалеть, значит любить». И, соответственно, любить - значит жалеть: такой вот характерный нюанс любви.
Ныне и присно по кручам Синая,
по полю русскому в русское небо,
ни колоска под собой не сминая,
скачут лошадки Бориса и Глеба...
Действительно ведь скачут эти лошадки по просторам нашей истории и культуры…
Как пишет Федотов, Бориса и Глеба ни в коем случае нельзя рассматривать как героев. Они страстотерпцы. Да, подражая Христу, они с готовностью претерпевают мучения, но при этом вовсе не чураются земной жизни, сокрушаются, что во цвете своих юных лет должны погибнуть. Всячески подчёркивается момент их человеческой уязвимости, слабости, юношеской красоты. В итоге, читатель их жития не может не проникнуться чувством жалости к юным князьям. Причем замечательно, что эта жалость их никоим образом не унижает. Она сопряжена с любовью, восхищением их человеческим совершенством, их святой кротостью.
Так что, как видим, жалость – достаточно ёмкое чувство, она не чужда и некоего внутреннего света. Если вернуться к «Сказанию» о Борисе и Глебе, мы видим, что жалость тут очень тонко и вместе с тем органично связана с ощущением радости жизни, с радостью от её красоты и совершенства, от присутствия в ней божественного промысла. «Плакашеся съкрушенъмь сьрдьцьмь, а душею радостьною, жалостьно гласъ испущааше» - так описывается здесь предсмертное состояние Бориса. И у читателя в доминанте остается именно эта светлая жалость, способная вызывать слезы. Недаром впоследствии образуется пословица – «жалеть, значит любить». И, соответственно, любить - значит жалеть: такой вот характерный нюанс любви.
РАЗВИЛКА ЖАЛОСТИ
- Светлая жалость связана и с великим терпением. У преподобного Исаака Сирина есть такое высказывание:
— Исаак Сирин
"Сердце милующее - это горение сердца о всем творении: о людях, птицах, животных, даже о демонах и всяком создании Божием. При воспоминании о них или при воззрении на них, глаза человека проливают слезы. От сильной жалости умиляется его сердце, и не может он слышать или видеть какого-либо вреда или малой печали, претерпеваемой тварью. А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред он постоянно молится, чтобы сохранились и были помилованы, а также и о естестве пресмыкающихся молится с великой жалостью, какая без меры возбуждается в сердце его до уподобления во всем Богу".
Возможно, здесь речь идет о каком-то третьем измерении, где обычная жалость, благодаря великому терпению, прорастает в великую жалость.
- Кстати, Исаака Сирина любил и ценил Федор Достоевский.
- Кстати, Исаака Сирина любил и ценил Федор Достоевский.
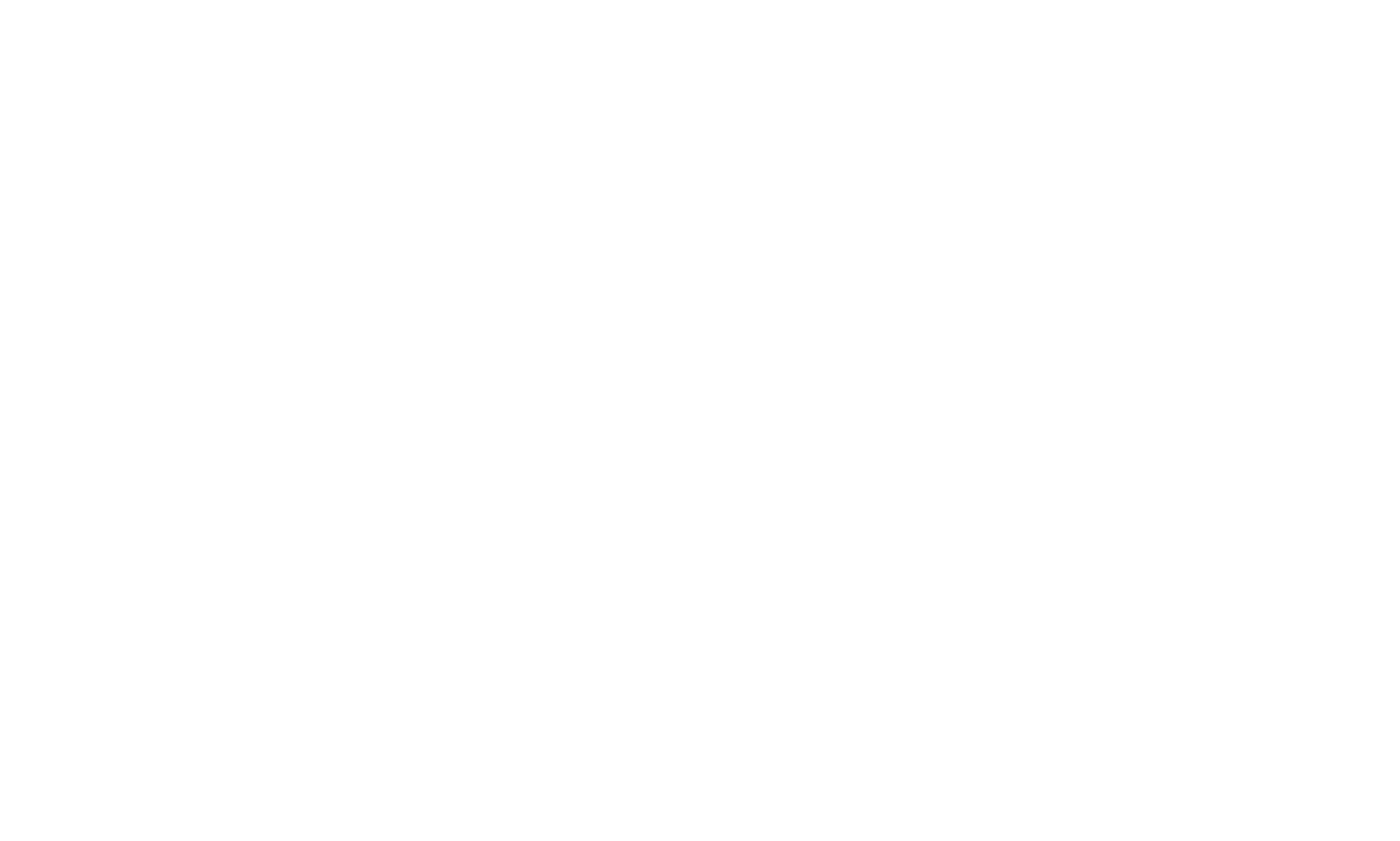
Исаак Сирин
И вот, помните, Мите Карамазову, после того, как его арестовали, снится сон. Он видит пустое село, несчастных погорельцев и женщину, чёрную, иссохшую, которая стоит и держит на руках своего младенца. Ей нечем его кормить. Дитё у нее на руках заходится в плаче. Митей, который видит этот сон, овладевает необычное, удивительное чувство - он понимает, что нельзя, чтобы это продолжалось, что сию же минуту нужно сделать что-то такое, чтобы не плакало дитё, чтобы не страдала мать, и чтобы никогда больше не было слёз ни у кого на земле. Сделать это немедленно, сейчас же и - сказано в романе – «со всем безудержем карамазовским». Представим себе – ведь от такого чувства можно и спиться, можно и в революцию пойти. Предполагал же Достоевский, что Алеша Карамазов, этот кроткий монашек и мистик, впоследствии станет революционером, и его казнят за то, что он выберет этот путь. Авторы знаменитого сборника «Вехи», который рассматривают как самокритику русской интеллигенции, очень жестко пишут об этосе жалости, имея в виду именно амбивалентность этого чувства. То, что оно может толкать человека на разные пути.
- Да, это развилка.
- Бердяев, один из авторов «Вех», тоже жёстко развенчивал жалость. Но вот проходит несколько десятилетий, и тот же Бердяев, уже зрелый философ, пишет о том, что жалость как таковая – «самое сильное доказательство принадлежности человека к другому миру». И что у человека, может быть, нет более высоких чувств, чем жалость. Но все равно риск жалости в том, что она может толкнуть, как говорит Бердяев, на отвержение Бога и человека. Вот такая амбивалентность в этом чувстве заложена.
- Да, это развилка.
- Бердяев, один из авторов «Вех», тоже жёстко развенчивал жалость. Но вот проходит несколько десятилетий, и тот же Бердяев, уже зрелый философ, пишет о том, что жалость как таковая – «самое сильное доказательство принадлежности человека к другому миру». И что у человека, может быть, нет более высоких чувств, чем жалость. Но все равно риск жалости в том, что она может толкнуть, как говорит Бердяев, на отвержение Бога и человека. Вот такая амбивалентность в этом чувстве заложена.
— Николай Бердяев
"Свобода, не знающая жалости, становится демонической"
УБИЙСТВО ЖАЛОСТИ
- Кстати по поводу того, что жалость может толкать на непредсказуемые последствия. У Хорхе Борхеса есть рассказ «Немецкий реквием». Это рассказ от первого лица. Комендант нацистского концлагеря Отто Дитрих цур Линде осужден за преступления против человечности и приговорён к расстрелу. В ночь перед казнью в тюремной камере он пишет свою последнюю исповедь. В ней он упоминает историю о том, как вынудил покончить с собой еврейского поэта Иерусалема. Он признается, что убить поэта его вынудило чувство жалости, которое, по его мнению, было несовместимо с его званием эсэсовца. Там есть такая цитата:
— "Немецкий реквием" (Хорхе Борхес)
«Не знаю, понял ли Иерусалем, что я убил его, чтобы убить в себе жалость. Для меня он не был ни человеком, ни даже евреем. Он стал символом всего то, что я ненавидел в своей душе».
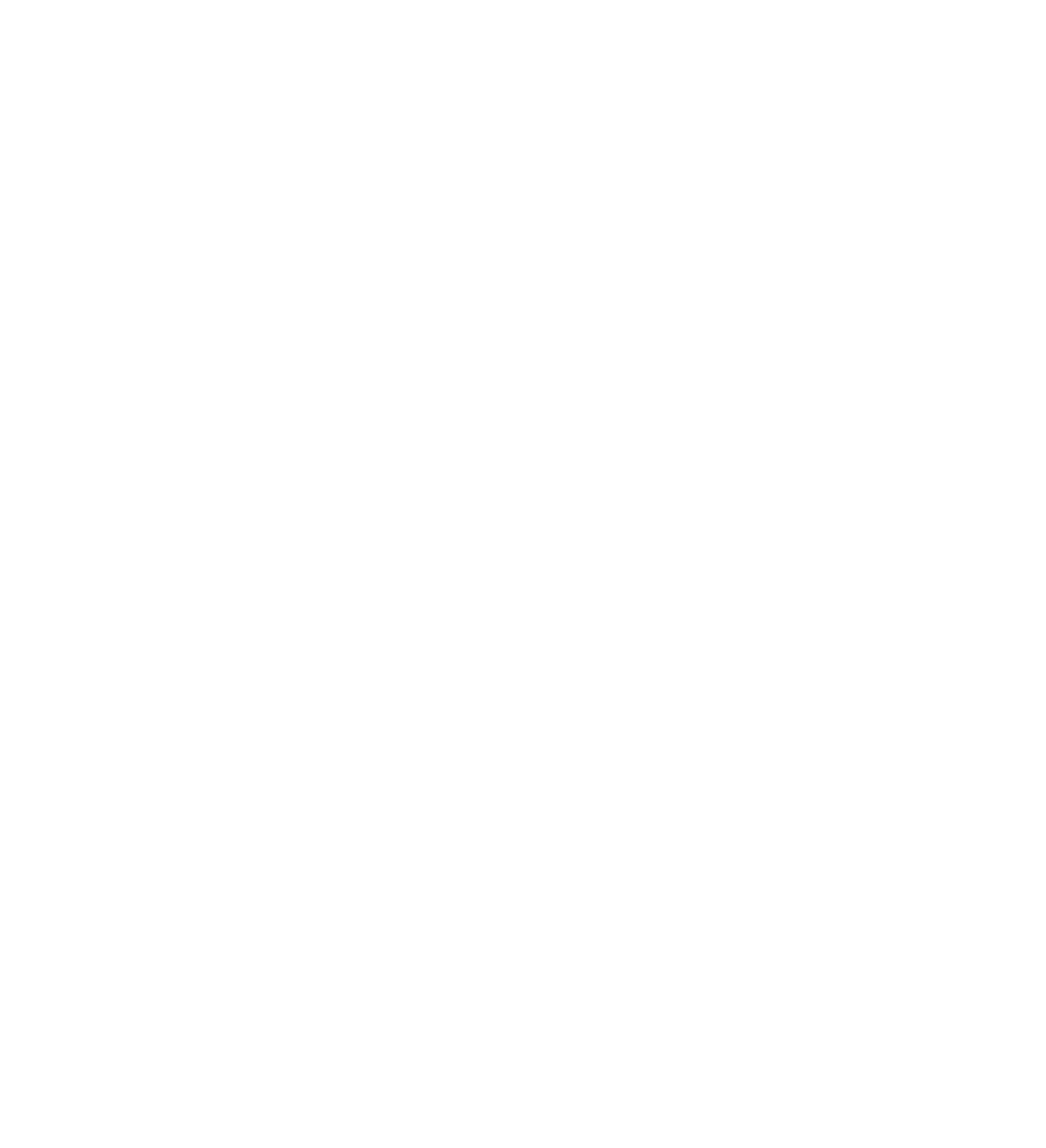
Хорхе Борхес
То есть иногда жалость настолько жалит человека, который отошел от своего пути, что для того, чтобы заглушить в себе это ранящее чувство, человек готов идти на такие действия…
- …Чтобы убить в себе жалость.
- …Чтобы убить в себе жалость.
СЛЕЗНЫЙ АСПЕКТ МИРА ИЛИ ОДНОТОННАЯ СЕРЬЕЗНОСТЬ
- Я хотел бы на проблему жалости посмотреть в более позитивном ключе. А зачем вообще человеку жалость и сострадание? В этой связи несколько слов о Михаиле Бахтине. В его записях есть удивительная страничка. Мыслитель, который в прежние свои годы вдоволь занимался и карнавальной культурой и вообще смеховой стороной человеческого бытия, вдруг пишет о том, как важно вчувствоваться в слезный аспект мира. Бахтин говорит: как смех противостоит официозу, всяческой напыщенности и отходу от человечности, так же и слезы, сострадательность возвращают человека к состоянию подлинности. Эта сострадательность оказывается отброшенной наступившим после Ницше «культом силы и торжества». «Казённая бодрость» и «бравурность», столь свойственные любому официозу, равно как и неизменно сопровождающая их «однотонная серая серьёзность» повседневного существования, враждебны не только смеховой стихии, но и стихии жалости. «Слёзы, - говорит Бахтин, - антиофициальны». Так вот – зачем современному человеку жалость? Сейчас действительно мы видим, что жалость активно вытесняется из человеческой жизни. И это происходит даже в таких областях, где жалости, казалось бы, самое место. Вот, например, забота о людях с ограниченными возможностями. Здесь, конечно, многое сейчас делается. Но связано ли это с развитием культуры жалости? Уверен, что нет. Господствует бодрящий девиз «Ты это можешь». Не беда, что нет ног – учись танцевать на протезах! Правилен ли такой подход? Правилен – пока мы помним о том, что танцевать на протезах всё-таки несравненно труднее, и что у нас всегда есть основания пожалеть людей, вынужденных решать такие жизненные задачи. Иначе наше отношение к ним утратит сердечность – а там недалеко и до прямого безразличия к ним, и до своеобразной моралистической жестокости. Важно не забывать, что в чём-то самом существенном мы таким людям, при всём старании, помочь не можем – и об этом нам сигнализирует наша жалость.
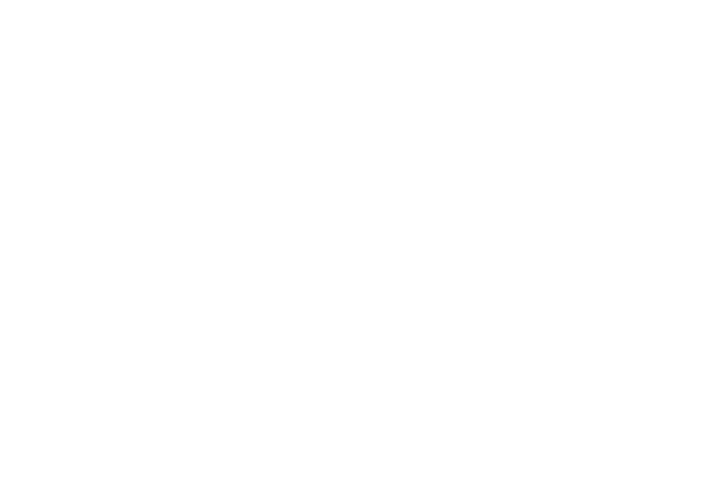
МИХАИЛ БАХТИН
Вообще, человеческая нравственность – явление многогранное, парадоксальное. Вот мы на днях были на лекциях, где обсуждались проблемы человеческого достоинства. Понятно, что достоинство человеку необходимо, что его нужно уметь защищать и в себе, и в других людях - но это как бы азбука, первый уровень этики достоинства. Преисполненность чувством собственного достоинства сама по себе не делает автоматически человека добрым.
бывают такие ситуации, когда человек должен забыть о своем достоинстве, понимать, что у него никакого достоинства нет и быть не может перед лицом чьих-то страданий
Оно, это чувство, способно вызывать и весьма недобрые поступки, и мы можем довольно часто это наблюдать. Так вот, наверно, бывают такие ситуации, когда человек должен забыть о своем достоинстве, понимать, что у него никакого достоинства нет и быть не может перед лицом чьих-то страданий, мучений, которые он видит и в которых должен кому-то помочь. Наверно, не очень хороша та мама, которая думает о собственном достоинстве в ситуации, когда у нее на руках больной ребенок, и нужно сделать все для того, чтобы его спасти. Есть такой термин – этическое забвение. У Леонида Андреева есть прелестный рассказ о том, как молодой и неопытный чертик пытался выучить правила добра, чтобы делать добро – поскольку по своей чертовской сущности не имел интуиции добра в своей душе. И ничего у него не вышло, потому что зачастую именно для того, чтобы быть добрым, человек должен забыть «правила» добра. Так же и жалость порой может толкать человека на нравственно рискованные поступки, даже на преступления, но это не значит, что сама по себе она не нужна. Жалость выбивает человека из привычной колеи, заставляет находить себя заново. В каком-то смысле, жалость всегда ставит перед нами неразрешимую задачу, а неразрешимые задачи способствуют внутренней перестройке. Эта перестройка может закончиться крахом, а может и привести к неожиданным плодотворным результатам. Во всяком случае, она не позволяет человеку омертвевать в сетях той серой однотонности, о которой с ужасом говорил Бахтин, противопоставляя ей слезный аспект мира.
ЖАЛОСТЬ И СОСТРАДАНИЕ
Жалость – чувство, которое нас пронзает, которое мы испытываем как боль собственной души, сострадание же – это сопричастность страданию другого. Сострадание, по-своему, тоже тяжелое и болезненное чувство. Древняя этимология слова, которое его обозначает – страда, страдати, - указывает на тяжкую работу, напряженное состояние другого – того, кому мы сопричастны. Сострадание всегда настраивает на деятельную помощь. А вот чувство жалости возникает тогда, когда я болею душой за другого, но понимаю, что ничего для него практически сделать не могу. Я могу только его жалеть. Еще один нюанс, который разделяет сострадание и жалость, состоит в следующем: эмоциональный центр сострадания всегда находится в другом. Жалость же может возникать независимо от того, что испытывает другой. Вот мы общаемся с человеком, кто-то нам рассказал, что он обречен, что он тяжело болен,- а сам он об этом не знает. Или хочет забыть. Нам жалко этого человека независимо от того, что испытывает он сам. То есть здесь не нужна частичка со- . Жалость, как таковая, этого со- не предполагает. Это нам жалко, это нам душу пронзает знание об обречённости другого, знание, которое мы даже способны утаивать от этого человека. Я ценю его душевное спокойствие, я не хочу преждевременно причинять ему боль.
Это нам жалко, это нам душу пронзает знание об обречённости другого, знание, которое мы даже способны утаивать от этого человека.
Жалость, которую я к нему испытываю - это чувство, за которое я ответственен, это я переживаю его. Это также придаёт чувству жалости особую тяжесть, поскольку мы не можем его разделить, как разделяем многие другие нравственные чувства.
ЖАЛОСТЬ И БЕЗЖАЛОСТНОСТЬ
Татьяна Алексеевна ЧАЙКА (вступает в разговор): Я хотела бы предложить ещё один аспект рассмотрения жалости. Вот мы говорим о тяжести, о грузе души, и это правильно. Но у жалости есть еще одна сторона. Вспомним «Снежную королеву» Андерсена.
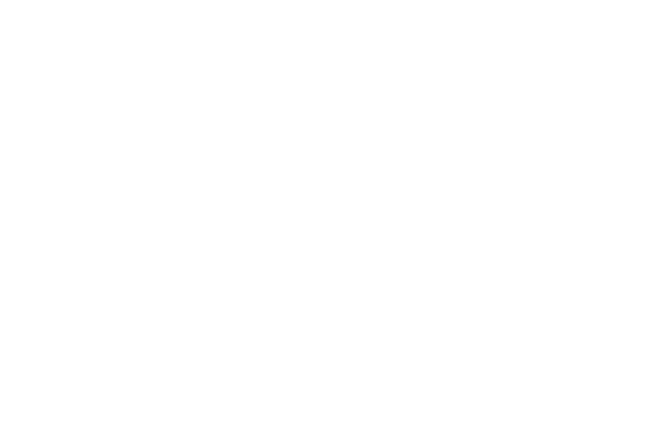
КАЙ И ГЕРДА
Вы помните, каким было первое проявление того, что у Кая появился осколочек в глазу? Там есть такой интересный момент, он поразил меня в детстве. Вот, после встречи со Снежной королевой, Кай с Гердой идут по дороге домой и видят бабушку, которая выходит из домика и спешит к ним. Бабушка старенькая, ей тяжело, она переваливается с ноги на ногу. И Кай смеется. Герда спрашивает: «Почему ты смеешься?» А Кай ей отвечает: «Посмотри на бабушку, как смешно она переваливается, словно утка». Герда не понимает - она смотрит на бабушку, но ничего такого не видит. Ей не смешно, а Кай смеется. Герда начинает плакать. Вот этот груз души. Кай говорит ей: «Не плачь, посмотри, какая ты некрасивая, когда плачешь». Понимаете, что происходит? Он видит, а она не видит.
Жалость делает человека прозорливым, но, с другой стороны, она для него закрывает «безжалостную» сторону бытия
Ведь действительно можно себе представить, что бабушка переваливается, как утка, и это смешно. А плачущая Герда некрасива. И это правда – но только для того глаза, который лишен жалости. Он видит то, чего реально не видит человек жалеющий. Жалость делает человека прозорливым, но, с другой стороны, она для него закрывает вот эту, «безжалостную», сторону бытия. Просто отводит от неё его взгляд. Для Герды, жалеющей и любящей - бабушка, похожая на утку, не существует.
- А может быть, Герда понимает, что так смотреть нельзя…
Т.А: Она не понимает, она плачет.
- Мне кажется, что дело тут в том, что Кай видел поверхностную реальность, бытие в ее маскировке. В его взгляде осталась только оболочка, но сердцевины уже не осталось.
- Да, пожалуй.
- Вот кстати про жалость и безжалостность. Мы упоминали сегодня уже о тоталитаризме. Ханна Арендт, когда анализирует тоталитарный режим, людей, их мировоззренческие установки, тоже обращает внимание на то, что для СС чувство жалости было опасным чувством – это то, что мы вспоминали у Борхеса. И она цитирует слова эсэсовца:
- А может быть, Герда понимает, что так смотреть нельзя…
Т.А: Она не понимает, она плачет.
- Мне кажется, что дело тут в том, что Кай видел поверхностную реальность, бытие в ее маскировке. В его взгляде осталась только оболочка, но сердцевины уже не осталось.
- Да, пожалуй.
- Вот кстати про жалость и безжалостность. Мы упоминали сегодня уже о тоталитаризме. Ханна Арендт, когда анализирует тоталитарный режим, людей, их мировоззренческие установки, тоже обращает внимание на то, что для СС чувство жалости было опасным чувством – это то, что мы вспоминали у Борхеса. И она цитирует слова эсэсовца:
- Немецкий комендант
"Я знаю, что это тяжелая, причиняющая страдания ноша, но что я могу поделать, это мой долг».
Он осознает, что то, что он делает – это ноша, причиняющая страдания. И оправдывает ее тем, что она необходима, что она – его долг. Можно ли сказать, что именно это «должно» перекрывает пути человеческой жалости?
- Татьяна Алексеевна знакома с холокостной тематикой куда лучше, чем я, но на меня когда-то произвёл впечатление такой факт. У Генриха Гиммлера (одна из ключевых персон нацистской Германии, рейхсфюрер СС. – ред.) была такая практика – объезжать нацистские лагеря. Вот он приезжал в лагерь уничтожения, выступал перед эсэсовцами и «вдохновлял» их именно такими речами. Дескать, он понимает, как им трудно, но ничего не поделаешь – такова их тяжкая, но совершенно необходимая и почётная миссия. Дескать, именно они, представители избранной расы, призваны взвалить на свои плечи такую ношу - освободить мир от «расово неполноценных существ». Он апеллировал к чувству долга, «священного долга» немцев, который необходимо исполнять. Показательно, кстати, что в кодексах чести нацисткой Германии, а гитлеровцы любили моральные кодексы составлять, на переднем плане были три ценности – народ, государство, фюрер. Общечеловеческих ценностей там не предусматривалось - соответственно, и эсэсовцы в лагерях могли преступать любые пределы бесчеловечности.
- Татьяна Алексеевна знакома с холокостной тематикой куда лучше, чем я, но на меня когда-то произвёл впечатление такой факт. У Генриха Гиммлера (одна из ключевых персон нацистской Германии, рейхсфюрер СС. – ред.) была такая практика – объезжать нацистские лагеря. Вот он приезжал в лагерь уничтожения, выступал перед эсэсовцами и «вдохновлял» их именно такими речами. Дескать, он понимает, как им трудно, но ничего не поделаешь – такова их тяжкая, но совершенно необходимая и почётная миссия. Дескать, именно они, представители избранной расы, призваны взвалить на свои плечи такую ношу - освободить мир от «расово неполноценных существ». Он апеллировал к чувству долга, «священного долга» немцев, который необходимо исполнять. Показательно, кстати, что в кодексах чести нацисткой Германии, а гитлеровцы любили моральные кодексы составлять, на переднем плане были три ценности – народ, государство, фюрер. Общечеловеческих ценностей там не предусматривалось - соответственно, и эсэсовцы в лагерях могли преступать любые пределы бесчеловечности.
ОГОНЬ ОЧИЩЕНИЯ
Т.А: Тем не менее, исключения встречаются везде. Вот документально зафиксированная история мгновенного вочеловечивания одного такого эсэсовца.
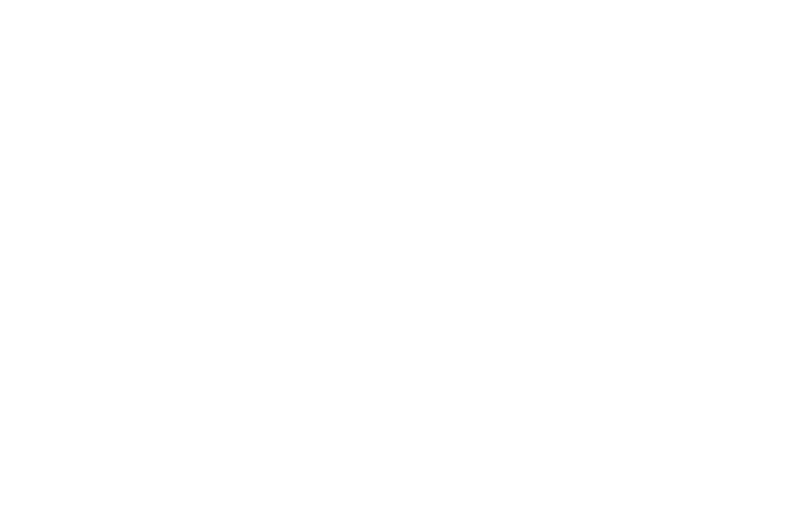
БАБИЙ ЯР. РАССТРЕЛ
Молодой немецкий офицер несколько дней подряд командовал расстрельной акцией. При этом он был известен своей жестокостью и невозмутимостью. Вдруг его коллеги видят, что он пытается застрелиться, выбивают у него из руки пистолет… В общем, ситуация невозможная, скандал. Начинается разбирательство, в конце концов, он рассказывает следующее. Перед тем, как людей ставили на колени перед ямой и стреляли им в затылок, им было приказано совсем раздеться. И вот к нему подходит маленький мальчик, лет пяти, и на идиш говорит - а идиш схож с немецким: «Дяденька, а чулочки тоже надо снимать?» И все. Мгновенный прострел. С него слетает все, о чем говорил Виктор Аронович, вся эта идеологическая подготовка. В один миг он увидел все. Увидел настолько четко, настолько неотвратимо, что единственное, что ему оставалось – это застрелиться. Потому что жить, дышать, находясь в этом ужасе, он уже не мог.
«Дяденька, а чулочки тоже надо снимать?» И все. Мгновенный прострел.
Мгновенное вочеловечивание – вот так тоже может действовать жалость.
- Эта история снова мне напомнила слова Исаака Сирина о «горении сердца» от великой жалости. Кажется, что огонь жалости сжигает тебя изнутри, но при этом, как феникс, каждый раз тебя возрождает. И ты либо преображаешься, если принимаешь в свое сердце чувство сильной жалости, либо закрываешься от него. Мне кажется, этот эсэсовец, закрывшийся от огня жалости, в момент, когда всего на мгновение он открыл ей свою душу…
Т.А.: Она его сожгла…
- …сожгла до конца.
- Вы знаете, когда рассуждаешь о таких предметах, как жалость, очень важно, наверное, в самый момент этого рассуждения удерживать в себе хотя бы след реального чувства, о котором идёт речь. Потому что если ты его потеряешь, то всё, тема забалтывается. Но как оживить, как сберечь в себе это внезапно нас настигающее чувство жалости, как удержать огонь души, пылающий в нём? Ведь жалость не только пронзает и гнетёт, но и обновляет нашу душу. Ты чувствуешь, как что-то в тебе становится совершенно иным, как перед тобой раскрываются новые горизонты бытия…
Т.А: А это не катарсис?
- Не знаю, применим ли здесь этот термин. Скажем по-русски: это действительно какое-то очищение человеческой души.
- Эта история снова мне напомнила слова Исаака Сирина о «горении сердца» от великой жалости. Кажется, что огонь жалости сжигает тебя изнутри, но при этом, как феникс, каждый раз тебя возрождает. И ты либо преображаешься, если принимаешь в свое сердце чувство сильной жалости, либо закрываешься от него. Мне кажется, этот эсэсовец, закрывшийся от огня жалости, в момент, когда всего на мгновение он открыл ей свою душу…
Т.А.: Она его сожгла…
- …сожгла до конца.
- Вы знаете, когда рассуждаешь о таких предметах, как жалость, очень важно, наверное, в самый момент этого рассуждения удерживать в себе хотя бы след реального чувства, о котором идёт речь. Потому что если ты его потеряешь, то всё, тема забалтывается. Но как оживить, как сберечь в себе это внезапно нас настигающее чувство жалости, как удержать огонь души, пылающий в нём? Ведь жалость не только пронзает и гнетёт, но и обновляет нашу душу. Ты чувствуешь, как что-то в тебе становится совершенно иным, как перед тобой раскрываются новые горизонты бытия…
Т.А: А это не катарсис?
- Не знаю, применим ли здесь этот термин. Скажем по-русски: это действительно какое-то очищение человеческой души.
ЖАЛОСТЬ, ПРИМИРЕНИЕ, МИР
- А очищение и порождает «милующее сердце», о котором пишет Исаак Сирин. Словно великая сила терпения как плод сильной жалости, которую человек испытывает, примиряет его сердце с миром. То есть жалость может быть и незаменимым способом примирения. А ведь в моменты, когда ты не можешь примириться, ты не с миром, ты на стороне войны…
- На мой взгляд, само сопоставление жалости и смирения очень содержательно, так же как и сопоставление жалости и радости, жалости и любви.
- На мой взгляд, само сопоставление жалости и смирения очень содержательно, так же как и сопоставление жалости и радости, жалости и любви.
жалость не только пронзает и гнетёт, но и обновляет нашу душу
Можно говорить, что эти чувства как бы перетекают друг в друга, хотя в чем-то они и разнятся. Жалость противостоит гордыне, приближает человека к его близким, делает его более внимательным к ним. И в этом смысле она действительно близка смирению – и примирению. Ведь примирение - это не бездеятельность какая-то, не отсутствие инициативы. Это бытие с миром, при мире…
- И сопричастность миру…
- Да, поскольку мир изначально – совокупность рядом живущих людей, соседская община в конце концов, а смирение, примирение - то, что вводит человека в мир. Очень важно понять, что мир как таковой – это не просто отсутствие конфликтов, отсутствие войны. Это позитивная ценность совместной жизни людей, универсальный горизонт человеческого общения. Хочешь общаться – береги мир. Жалко ли нам людей, бок о бок с которыми мы живём, жалко ли нашего общения с ними, нашей общей памяти и надежд, способны ли мы ещё жить с ними в мире – вопрос, от которого в наши дни зависит бесконечно много.
- И сопричастность миру…
- Да, поскольку мир изначально – совокупность рядом живущих людей, соседская община в конце концов, а смирение, примирение - то, что вводит человека в мир. Очень важно понять, что мир как таковой – это не просто отсутствие конфликтов, отсутствие войны. Это позитивная ценность совместной жизни людей, универсальный горизонт человеческого общения. Хочешь общаться – береги мир. Жалко ли нам людей, бок о бок с которыми мы живём, жалко ли нашего общения с ними, нашей общей памяти и надежд, способны ли мы ещё жить с ними в мире – вопрос, от которого в наши дни зависит бесконечно много.
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Для самостоятельного исследования темы Жалости
Святые Древней Руси. Глава I
О божественных тайнах и о духовной жизни
Братья Карамазовы
Сборник статей о русской интеллигенции
Философская истина и интеллигентская правда
Правила добра
О назначении человека
«Немецкий реквием»
Риторика, в меру своей лживости
«Снежная королева»
Предыдущий
ИСПЫТАНИЕ СТЫДОМ
Философ Виктор Малахов об унижении ненавистью, сопричастности стыдом и высоких ориентирах
THE VIRTUOSO
Просвещение красотой мира, которая облагораживая - преображает
